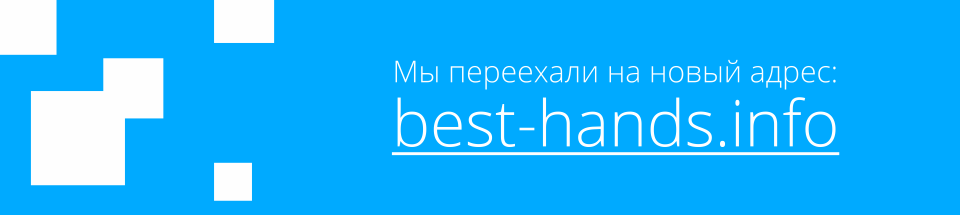Фотография
Рита Шмидт Кто Угодно
" Рита Шмидт Кто Угодно " по повести Юрия Буйды, из книги "Прусская невеста". Из архива моих литературных исканий: «Дружба Народов» 1999, №9 " Где не выходят газеты. . . (Ю. Буйда. Прусская невеста. М. : НЛО, 1998)" Я вспомнил эту давнюю поездку в бывший прусский Тильзит, теперь зовущийся Советском, прямо с первым рассказом Буйды из новой книги. Был тогда, лет тридцать назад, в Советске недолго знаменитый театр, и Ленинградское ВТО собрало молодых театральных критиков, в которых я тогда ходил, поглядеть и обдумать это нежданное явление на краю отечественной географии. Нам показали шиллеровских “Разбойников” и “Лес” Островского. Чудо известности разъяснилось. . . Оно было в том, что театр слыхом не слыхал о времени за окном и жил внутри текста как в единственной реальности. “Разбойники” были вполне сверстниками Шиллера, а Аркашки Счастливцев и Несчастливцев — детьми провинциальной антрепризы минувшего века. Время осталось “за границей” этой умозрительной земли, жители которой все до одного были привезены сюда из чужих краев и еще не успели нажить здесь ни могил, ни памяти. Утром я выглянул в окошко гостиницы и увидел, как старушка бережно несет серединой улицы огонек павлиньего пера, словно боится, как бы его не задул ветер. Через полчаса такой же точно огонек пронесла другая старушка. Я пошел к истоку этого павлиньего ручья и вышел на базар, где по случаю воскресного дня торговали последними уж, наверно, остатками прусских чудес, которые еще дотлевали по шкафам и комодам в одну ночь выселенной страны. Немецкие мундиры, серебро и фарфор разобщенных сервизов, бедные гобелены, бронзовые дверные ручки. А один бедняга безнадежно обнимал у ворот неизвестно к чему могущий пригодиться самолетный винт. Вместе с только что виденными на улицах, все проступающими на стенах немецкими надписями, вместе с не знающим времени театром, этот базар разом уносил в какое-то кинематографическое или словесное пространство, словно в чудесно выполненную декорацию, которая выключала человека из исторических забот, оставляя в каких-нибудь вечных 40-х или начале 50-х. . . Юрий Буйда родом оттуда, из этой “умозрительной” земли, и оттуда же родом его счастливый, несчастный, печальный, иронический, любящий дар. Он отлично понимает эту связь и без недомолвок объясняется с читателем: “Там, где я родился, тени и тайны принадлежали чужому миру, канувшему в небытие”, и потому “я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира”. Мир надо было обжить, чтобы было на что опереться. Ему надо было дать имя и воскресить его мифологию, чтобы жизнь обрела даль, чтобы пространство заселилось временем. И Буйда сделал это с такой щедростью, изобретательностью, счастливым чувством полета, что если судьба занесет теперь нас ненароком в его Знаменское-Велау, мы сразу узнаем и его географию, и каждого жителя, как если бы мы приехали в гоголевскую Диканьку, в фолкнеровскую Иокнапатофу или воровскую Одессу Бабеля, где всяк человек нам ведом по имени и где стоит один неизменный день, будничная вечность, вмещающая рождение, любовь и смерть, как неустанный шаг на месте, но странно все время вперед, именуемый жизнью. И что это за население! Бросился было выписывать поименно и спохватился: чего это я — они же все идут за гробом легендарной старухи Буянихи. Всех-то не позовешь, неудобно отвлекать от кладбищенской процессии, но лучших, но главных как не окликнуть, тем более, что они и до “Чуда о Буянихе” и после него проживут в книге каждый свою судьбу. Так вот там шли: Вилипут, Красавица Му, Хитрый Мух, По Имени Лев, Прокурор, Мороз Морозыч, Веселая Гертруда, Миленькая и Масенькая с Мордашкой на руках, Зойка-с-мясокомбината, Феня из Красной столовой, бабушка Почемучето с громко тикающим будильником в ридикюле, солдат Маруся со своими прелестными детьми и много еще славного народа. Это не клички — это удостоверение подлинности, это знак принадлежности к мифу и житию. Это называние сущности, которая за именем, так что если эта сущность ускользала, то человека пропускали мимо ушей, потому что “такой человек заслуживал лишь того имени, что значилось в его паспорте”, то есть попросту был анонимен. Легко было счесть это озорством разыгравшегося дара, пирующей фантазии (не зря Буйда, а он и себе посвятит главку, где реальность висит на волос-ке, — это “рассказчик, лжец, фантазер”, так что ему и клички не надо), но, кажется, дело потоньше. Тут за недостатком исторического времени нынешняя реальность пишется заодно с мифологией, бедная реальная жизнь добрых людей вместе с их “Илиадой”. И время спрессовывается и закаливается до вечности, так что, возвратись теперь домой прежние прусские жители, они разобьются о стену обжившегося тут без них, кажется, от века бывшего нового предания со своими призраками и легендами. Ну и то еще не забудешь, что ведь никуда не делись и прежние призраки и легенды, что земля не бывает пустой, особенно такая древняя и устойчивая, как доставшаяся нам тогда Пруссия — “чужая земля, засеянная чудесами, выраставшими в чудовищ”. Сны и предания не уезжают с выселенным народом, потому что более привязаны к месту и наполняют прозу Буйды и жизнь его героев своими тайными отблесками, волшбой и сглазом, безумием и восторгом. Поневоле согласишься с одним из его старых героев, что “факты умирают, вечно лишь предание. Если угодно — ложь. Вот ее не оспоришь. Только идиоту придет в голову выяснять, на самом ли деле этот парень из Ламанчи сражался с мельницами”. Этот “парень” тут тоже мелькнул не зря — он как Гоголь, как Фолкнер, как Генри Джеймс, как епископ Беркли, кого автор называет и о ком умалчивает — из предшественников этой прозы. Как и цитаты из Рильке или Гете, как бормотания безумной старухи “Зейд умшлюнген миллионен”, мелькающие из рассказа в рассказ, пока ты не поймешь, как мир надругался над обнимающимися шиллеровскими миллионами и вместе с тем как в этих же словах оставил им надежду. Это умная проза о здоровых обыкновенных людях, которых, как слабее всего привязанный в своей прежней земле сор, снесло сюда послевоенное историческое половодье. Они все по воле автора не без тайного Босха внутри, но тоже не от простого произвола фантазии, а оттого, что автор силою и мудростью настоящего дара знает, что “поверхность” человека обманчива и что достаточно его “паспортные данные” возмутить любовью и смертью, как сквозь них проступит тайна и страсть, счастье и безумие, мечта и преступление. Он не выдумывает, он прозревает существо жизни своих героев, тот небесный свет игры, который, если фантазию отпустить далее должного, может обернуться тьмой противоположной небу стороны, как происходит в рассказах “Красавица Му” или “Тема быка, тема льва”, где уж подлинно начинает клубиться тьма фаустовского Брокена. Но в большинстве сочинений он с любовью и печалью глядит, что история делает с людьми, как она увечит и разлучает их, и, как всякий русский художник, сопротивляется ей, напоминая нам о счастливом мире, в котором царят другие законы, сияет другой день и не познанная историей молодая вечность. Его бедные герои и сами не слышат в себе вечности, обманываясь общей суетой, но он застает их как раз в то мгновение, когда власть времени прерывается и они проваливаются в зазор мира, “где не выходят газеты”. И тогда становится неистово подробен, как в “Чуде о Буянихе”, “Вилипуте из Вилипутии” или “Рите Шмидт Кто Угодно”, потому что ничего нельзя опустить из опасения соврать перед Богом, повредить героям на их последнем пороге, в главном их предстоянии, где каждое “показание” проверяется на просвет. Даже сам их ужасающий быт озаряется как при вспышке молнии и оказывается в осмысленной неизбежности и полноте таинственно родственен невыносимой мечте, так что вместе с автором мы будто внезапно обессиливаем и не знаем, “какой же язык нужен, чтобы поведать эту правду — и не умереть? Земной? Небесный? Живой? Мертвый? Прекрасный, как музыка? Или такой же ужасающий, как музыка?” Что ответить? Он сам знает. Нужен язык любви. И он жадно и бережно внимателен к каждому и, кажется, переписал всех жителей малого своего городка и любит их именно такими, каковы они есть, — храбрыми и ничтожными, святыми и лживыми. Это Твой мир, Господи. Тебе его и судить, а мне дивиться неисчерпаемости человека и успеть пожить с каждым и понять, что в человеке нет случайного, потому что каждого несет неумолимая судьба, в которой любовь и смерть кажутся именем одного явления, хотя бы смерть казалась нечаянной, а любовь грубой, как насилие. И вот уж кто любит сюжет, нянчит его, наслаждается им, и сюжет благодарно цветет неприятной Клеху тончайшей психологией, спасает героев и автора и опять убеждает, что мир насквозь сюжетен и его надо только верно прочесть и что дело не в оружии, а в том, в чьих оно руках. И опять вспоминаешь как впервые давно известную, но все забываемую правду, что при настоящей ответственности художника перед Богом и миром литература — есть единственно настоящая жизнь, беловик Божьего замысла о человеке, а фантазия — лишь другое имя проницательной правды. Конечно, я немного обманываю себя, останавливаясь на одной лучшей стороне прозы Буйды. По началу статьи видно, что я и этой книги ждал с тревогой, потому что знал прежние работы прозаика, да и тут успел наудачу раскрыть один из рассказов еще до обстоятельного чтения и наткнулся как раз на темнейший — на “Красавицу Му”. Но душа устает от зла и сама бессознательно ищет врачующего света, загораживая спиной дурные страницы, чтобы тем ярче сияли светом преодоленного страдания лучшие. Это преодоленное страдание здесь есть, и это главное, тогда как И. Клех при внешне близком подходе к литературе и миру еще слишком много времени проводит перед зеркалом, а Павлов никак не изживет страшной обиды юности и никак не увидит неба, которое одно удерживает мир в равновесии. А все они вместе, не сговариваясь, написали болезненный портрет жизни, вынесенной историческими сквозняками посреди милой Родины во что-то непоправимо чужое, жизни, страдающей среди этого чужого и приноравливающейся к нему у каждого художника по-своему. Вот, может быть, это и мерещилось тем своим, которое узнавалось даже в досадных душе текстах — это чувство ссылки и непопадания в интонацию жизни, будто и сам, не выходя из дому, оказался в чужой земле. А если все-таки не развилось это насильственное, навязанное временем сиротство в ожесточение, то потому, что душа успела накопить спасительных воспоминаний, и потому, что она успела коснуться чуда не рефлектирующей жизни до вопроса о смысле этой жизни. И уж Бог даст, не разовьется, потому что “жизнь — толковательница Слова” все не устает терпеливо подсказывать, что она есть нечто “действительно совершаемое” и что жить навсегда и вовеки “важнее, чем знать”. И в этих, таких разных, книгах, страдая и мучаясь, раня, а то и оскорбляя читателя, мысль все-таки исподволь клонится туда же, туда, в родную русскую сторону — жить, не забывая о родстве слова и Слова. Псков