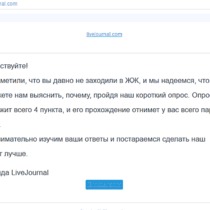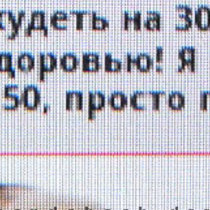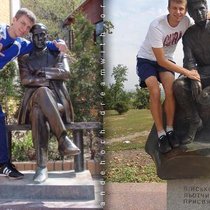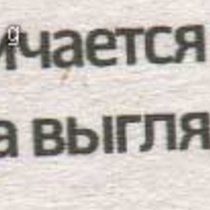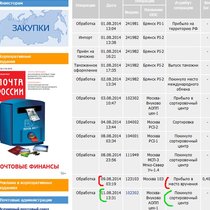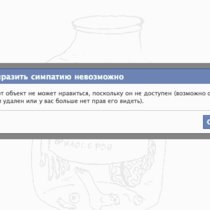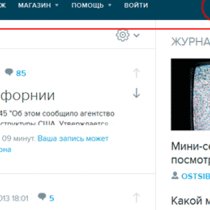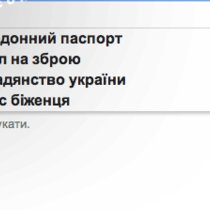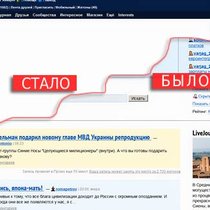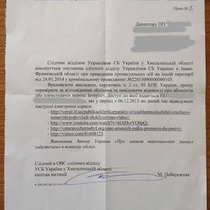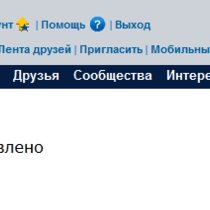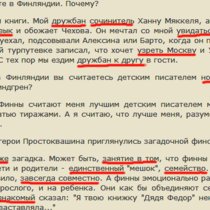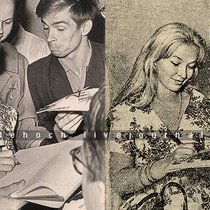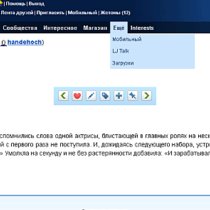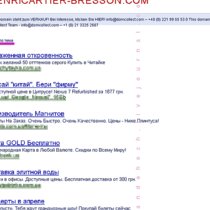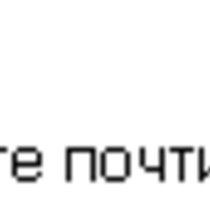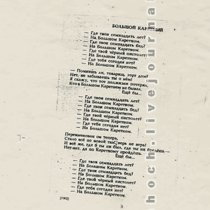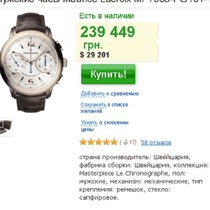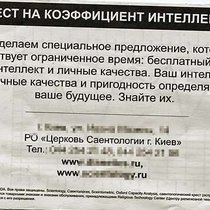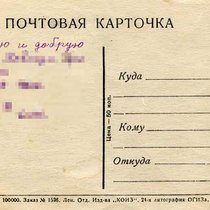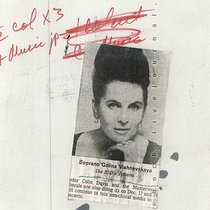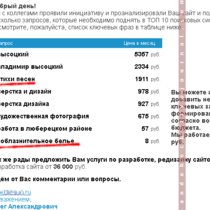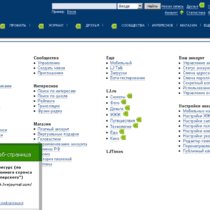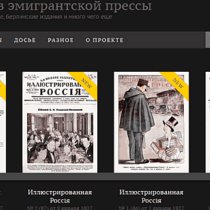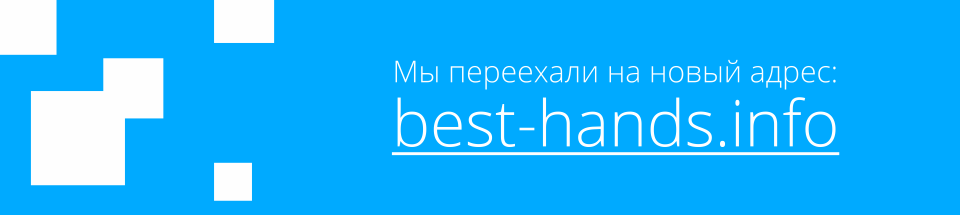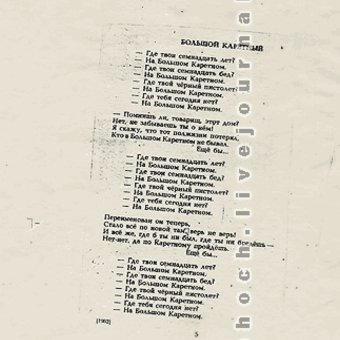Фотография
. . . вам дарит возможность. . .
К выпуску нескольких первых изданий Владимира Высоцкого (в том числе — «Я, конечно, вернусь» с кассетой на обложке и «Избранного», несколько страниц гранок к которому сохранились дома среди старых бумаг) я имел счастье быть в определенной мере причастным. Наверное, в ту непростую пору где-то в подсознании и звучало эхо его строчек: Мне хочется верить, что грубая наша работа Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход, — но меня пронизывает особое чувство, когда сегодня читаю, к примеру, слова Аркадия Бабченко: Оригинал взят у starshinazapasa в Что сказать, Владимир Семенович. Спасибо, что я живой. . . «Я сам из поколения Цоя. Форимрование моей личности проходило не в эпоху "охоты на волков", а в эпоху "перемен". Как и все подвально-телогреечные панки конца восьмидесятых — начала девяностых, я мог наизусть процитировать всего Летова или Хоя, и не имел никакого представления о Высоцком, который лежал вне мировоззрения наших подвалов. И до которого, к тому же, надо дорасти. Хотя бы годами. Знакомство с Высоцким у меня произошло не совсем обычным способом. В моем представлении, Высоцкий это — бобины с катушечными магнитофонами, до фонового шороха по тридцать раз переписанные кассеты, и "Идет охота на волков" в ДК различных заводов. Символы эпохи таковы. У меня ничего этого не было. Да и открыл я для себя не Высоцкого-музыканта, а Высоцкого-поэта. Начал не с прослушивания, а со чтения. Которое, как впоследствии выяснилось, оказалось ничуть не хуже. Редкий случай, кстати говоря. Подавляющее большинство песен невозможно перенести на бумагу —они моментально теряют свой смысл. Высоцкого же можно еще и читать. Это настоящие полноценные стихи. Встретились мы в марте двухтысячного года на консервном заводе в городе Аргуне. Это, если по трассе, то после Грозного сразу направо. За Ханкалой. Нас вывели с гор, война подзатихла, солнце припекало уже вовсю, мы валялись на траве и бездельничали круглыми сутками. Тяжелое для армии время. Падение дисциплины, пьянство и безалаберность. Да и для солдата тяжелое. Делать совершенно нечего. Только пить да спать. Да в зиндане после пьянок сидеть. Разброд и шатание. Самым тяжелым в таких периодах затишья оказался, как ни странно, информационный голод. Вопрос выживания отходит на второй план, появляется время, которое нужно куда-то девать, вследствие чего организм вырабатывает новый, незнакомый ресурс - интерес к окружающим обстоятельствам. Сегодня мы уже не представляем жизнь без постоянного потока информации. Она льется отовсюду, в большинстве своем бессмысленная и бесполезная, но как только этот поток прекращается, ты понимаешь, насколько ты на него уже подсажен. Там же нет НИЧЕГО. Ни телевидения, ни радио, ни интеренета, ни газет, ни даже электричества. Ты знаешь только то, что происходит непосредственно вокруг тебя. Источниками информации являются только те люди, с которыми общаешься лично. Остальные события отсутствуют. Ты даже не знаешь названия села, в котором стоишь. И никаких других новостей, кроме как "того-то убило, а того-то ранило" в твоем мире не существует. Но когда "убило и ранило" прекращается, человеку вдруг оказывается так же необходимо, как есть и дышать - получать информацию. Поэтому читали все. В буквальном смысле все, что попадалось под руку. Газеты со стен из-под обоев были литературой высшего класса. Если же кому удавалось найти книгу — хоть справочник по судебной медицине - её зачитывали до дыр (своеобразным, правда, способом — пристроившись на корточках со спущенными штанами и употребляя бумагу, информация из которой уже принята к сведению, по её более прямому назначению. Так что долго книги не жили, после каждого приема пищи становясь заметно тоньше). Я же в какой-то момент поймал себя на том, что уже второй час перечитываю этикетку с банки тушенки. И это оказалось увлекательнейшим чтивом! Высоцкого я нашел в конторе мясного цеха, наименее пострадавшем помещении завода. Не знаю, почему, но там на стенах еще оставались огромные куски мягких, не заскорузлых от клейстера обоев, что мне - с моей острой инфекционной дизентерией — было важно. Именно под одним из таких кусков я и нашел маленький карманный томик, стилизованный под магнитофонную кассету "МК-60". Видимо, эта стойкая ассоциация "Высоцкий — кассета" возникает у всех. Высоцкого, повторюсь, я тогда не очень понимал и принимал. Но тут открыл томик, и…. и все исчезло. Дизуха, война, гниющие от стрептодермии ноги, горы, смерть, холод, теплое мартовское солнце, консервный завод, отсутствие воды, голод, избиения, центральный рынок, где вчера в затылок застрелили двоих с пехоты, элеватор, на котором ночью почему-то завязался коротенький бой, дом, дембель, мир, возвращение, жизнь… Все пропало. Я сам пропал. Провалился, как в кроличью нору, в этот томик с головой. Он открыл мне какой-то другой, совершенно фантастический мир, в которым было еще что-то помимо кровавой дристни и вареной собачатины. Как только я открывал его, реальность переставала существовать. Прямые линии изгибались, параллельные вселенные пересекались, мир становился мягким и изгибчивым и плыл, словно парафин в ночном светильнике, а вещество теряло свою осязаемость и уносилось в вечность. Это было похоже на санчасть, где вольнонаемная медсестра Ольга перевязывала мне дырки в гниющей от стрептодермии шкуре и клала свои длинные прохладные ладони мне на бедро. Я стоял перед ней без штанов, но в этом не было ни капли от секса или эротики, это лежало вообще вне физиологии… Это был Мир. Мирная жизнь без войны. Что-то из того, давно забытого, и, вероятнее всего уже ни когда не восстанавливаемого, где существуют еще такие понятия как добро, любовь, веселье, праздность, справедливость, женщины, чистота, удобство, приятие. Где не стреляют. Где есть платья и разговоры за столом. И споры о поэзии и музыке. И сама Музыка. И сама Поэзия. И даже такое понятие, как "смысл жизни". И, раскрывая этот томик, я каждый раз уносился туда, в ту мирную жизнь, которую я уже и не ждал, да и не верил, но мостик к которой мне вдруг перекинул этот маленький карманный томик в виде магнитофонной кассеты и куда мне вдруг впервые захотелось вернуться. Захотелось до безумия. До колик где-то там за грудиной, где, видимо, и находится душа. Высоцкий все понимал. Он писал мне — персонально мне, и только для меня. Жил я славно в первой трети Двадцать лет на белом свете — по учению, Жил бездумно, но при деле, Плыл, куда глаза глядели, — по течению. . . . И пока я удивлялся, Пал туман и оказался в гиблом месте я, — И огромная старуха Хохотнула прямо в ухо, злая бестия. Две судьбы — Кривая да Нелегкая — первое стихотворение, которое я прочел, сидя на корточках с кровавым поносом в конторе мясного цеха консервного завода города Аргуна — и до сих пор считаю, что ничего лучше им создано не было. До сих пор недоумеваю, почему оно так мало известно. Собственно говоря, Высоцкий и вернул меня с войны. Именно он, появившись в тот момент, когда надо было появиться, не дал мне сойти с ума и уйти в ту дыру, именуемую войной, окончательно. Из выбора жизни и смерти подтолкнув к жизни — а я ведь уже не хотел возвращаться. Как в прямом, так и в метафизическом смысле, потому что вернутся телом еще ничего не значит, главное вернутся мозгами и душой — а такой шанс выпадает уже не всем. Сказать, что только он один вытащил меня из войны, было бы, конечно, слишком пафосно. После него были и последующие, гораздо более тяжелые ступеньки — любовь, потом семья, наполненная смыслом работа, рождение дочери… Но именно этот томик был той первой ступенькой в той длинной лестнице возвращения, вцепившись за которую я, в итоге, и начал выкарабкиваться из войны. И выкарабкался-таки. Вернулся. Не спившись, не сев в тюрьму после драки, не закончив свои дни в бухой охране на стройке, не повесившись, не сойдя с ума и не оставшись контрактником в войне окончательно. Этот томик до сих пор лежит у меня в шкатулке с самыми главными драгоценностями моей жизни — смертным медальоном, выданным мне перед отправкой в "район боевых действий", танковым осколком, пригвоздившим к земле мою штанину, зажигалкой из гуманитарной помощи, присланной к выборам Ельцина. . . Что сказать, Владимир Семенович. Спасибо, что я живой».
цой виктор . . закулиса . . бумаги высоцкий владимир бабченко аркадий